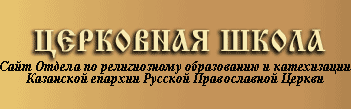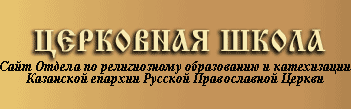ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ШКОЛЫ
(На память о С.А. Рачинском).
С.А. Рачинский написал немного. И не словом, но делом красна его память. В эпоху великого общественного возбуждения и подъема, в эпоху великих реформ прошлого века он удалился в свое сельское уединение. И здесь вложил всю волю свою и всю душу в единое и живое дело, в дело создания церковной школы, школы церковного духа, школы под сенью под сенью Церкви. Это был творческий опыт. Вскоре он был повторен сверху и во Всероссийском размахе, через учреждение церковно-приходских школ. Смута снесла и разорила церковно-народную школу. Живое преемство дела прервалось. Но замысел остался жив и с новою силою оживает, должен ожить теперь, как творческое задание в предстоящей борьбе за народную душу, за подлинную и Святую Русь. И память воскрешает уроки прошлого опыта, иногда прямые, иногда назидательные от обратного.
Школьное дело было для Рачинского своеобразным хождением в народ. Его педагогическая мысль сложилась под живым впечатлением острого разрыва и разъединения общества и народа. В освобождении крестьян он почувствовал и увидел пробуждение и призыв "многочисленнейшего из христианских народов" к творческой жизни, к духовной свободе. "Историческая минута, переживаемая нами", говорил Рачинский в конце 80-х годов, "минута великая и страшная!. "Ныне начинает слагаться умственный и нравственный облик самого многочисленного, самого сплошного из христианских народов вселенной", повторял он лет десять спустя. Народ пробудился, и приносит с собою и великое религиозное богатство, и великую религиозную потребность. Рачинскому казалось, что народ свидетельствует свою окончательную и непреложную решимость и волю жить и быть в Церкви, и через Церковь расти и развиваться. Этого убеждения в нем не колебали наблюдение над темными сторонами народного быта. Он верил в "ту высоту, ту безусловность нравственного идеала, которая делает русский народ народом христианским по преимуществу". И в этой вере повторял Хомякова и Достоевского. "Русский народ", полагал Рачинский, - народ глубоко верующий, и первая из его практических потребностей, наряду с удовлетворением нужд телесных, есть общение с Божеством". И народ умеет, удовлетворяет эту потребность, и удовлетворять эту потребность в Церкви. "Среди тягостного однообразия серой, трудовой жизни, среди лжи и пошлости, веющей от полуобразованного слоя сельского населения, где просвет для души нашего крестьянина, где отзыв на те стремленья, которые лежат на дне этой души, составляют существеннейшую ее суть? В церковном празднике, приносящем ему полуискаженный отголосок древнего дивного напева; в баснословном, но согретом верою, рассказе темного странника; в долго откладываемом, наконец, удавшемся походе в дальний монастырь, где его молитва обретает достойные ей звуки, укрепляющую ее обстановку, где он видел, увы! лишь признак истинно христианской жизни, и еще все чаще и чаще ныне – в долгих чтениях, при свете лучины, в бесконечные зимние вечера – Священного Писания или Жития Святых". И силою вещей, силою народного духа и влечения накладывается религиозная и церковная печать на народную школу, на сельскую школу. "Религиозный характер всегда присущ русской сельской школе", говорил Рачинский, "ибо постоянно вносится в нее самими учениками". "Наша бедная сельская школа, при всей своей жалкой заброшенности, обладает одним неоцененным сокровищем. Она – школа христианская; христианская потому, что учащиеся ищут в ней Христа". "Из дому они выносят и вносят в "школу духовную жажду",…интерес к вопросам веры и духа". Во всех насажден живой и зародыш благочестия: истинное благоговение перед еще неведомою святыней, глубокое уважение к знанию вещей божественных, живое чувство красоты внешних символов богопочитания", - и смутный, но твердый религиозный и нравственный идеал. "Монастырь, жизнь в Бога и для Бога, отвержения себя, - вот, что совершенно искренно представляется конечною целью существования, недосягаемым блаженством этим веселым, практическим мальчикам…Монастыря они и не видали. Они разумеют тот таинственный, идеальный, неземной монастырь, который рисуется пред ними в рассказах странников, в житиях святых, в собственных смутных алканиях их души"… Школа должна насытить эту таинственную внутреннюю жажду, укрепить и осуществить врожденный религиозный характер. Ибо школа есть не только образовательное, но, прежде всего, воспитательное дело. Сельская школа не может быть "простым приспособлением для научения крестьянских ребят чтению и письму, элементарному счету, словесным символам господствующего вероисповедания". "Начальная школа должна быть не только школой арифметики и элементарной грамматики, но, скорее всего, - школой христианского учения и добрых нравов, школой жизни христианской". В ней должно осуществляться такое высшее духовное задание. И вот, Рачинский с горечью и тревогой убеждается, что в существующей и устрояемой сверху начальной школе если и осуществляется какое – нибудь задание, то задание глубоко чуждое и далеко коренному народному духу. С шестидесятых годов народная школа строится по иноземному образцу, по отвлеченному гуманистическому идеалу, вдали от Церкви, даже с подозрительностью к Церкви и Ее духу. И в этом сказывается и отражается отрыв и отпадение культурного меньшинства русского общества от Церкви, от исконных начал религиозно-исторической жизни русского народа. Такая школа остается народу непонятной, не отвечает его лучшим и святым запросам, и если оказывает на новые поколения большее или меньшее влияние, то всегда опасное, - вносит духовное и вместе с тем социальное разложение в сельскую среду. Она вводит крестьянскую молодежь в какой-то новый и чужой мир, срывает ее с живых бытовых корней, приобщает к какому-то другому строю и жизни. Она создает и вселяет противоречья в народную душу. Самым строем и составом своим она колеблет религиозные устои, наводит на сомнения. "Прежде всего, внимание учеников сосредотачивается на учителе", описывает Рачинский… "Человек новый, совсем непохожий на отца и деревенских соседей, одетый как барин, вхожий к господам, и говорит он, как барин. Это – все оттого, что он очень учен, много знает, знает все. Говорит он ласково. По большей части, он человек добродушный, и ребята скоро привязываются к нему. Говорит он и о Боге, но неохотно и мало. Постов он не соблюдает, (да и как их соблюдать?) Это значило бы, на добрую половину дней в году отказаться от общения с людьми почище. (Не утренние же делать визиты?) В Церковь он ходит, но пользуется всяким предлогом, чтобы в нее не ходить.… Мало-помалу оказывается, что все это – не его личные странности, но что, как он, живут все господа, все ученые люди в сюртуках, которых от господ не разберешь. Они даже, эти господа, часто между собою посмеиваются над всем этим, и над постами, и над церковными службами, а всего чаще над батюшкой и дьячком. Видно, все это ученым людям не нужно. Церковь, приверженность к Боженьке – дело мужицкое, дело людей серых и темных.… С этим мальчик и оставляет школу. Да, это так. Все божественное, все церковное, это – только для нас, пашущих землю, учащихся на медные гроши. Люди ученые, господа, без всего этого обходятся. А заповеди Божии? Разве чтут их господа? Разве помнят они день субботний? Разве чтут отца и матерь более, чем мы? "И эти детские впечатления подтверждаются и закрепляются в дальнейшей жизни, под "влиянием той низшей господской среды, которая мелькнула в школе" перед детским взором. Выход за пределы семьи и сельского быта для крестьянского ребенка всегда оказывается соблазнительным. Но всего острее и резче этот соблазн является в образе сельского учителя, пришедшего из новой школы, из учительских семинарий, из городских школ, из низших классов гимназии. По происхождению он связан с деревней, но духом оторван от нее навсегда. "Он вполне отпадет от крестьянской среды, и, поступивши на места, вдали от своей родины, прямо примыкает к среднему слою сельского общества, состоящему из духовенства, небогатых помещиков, кабатчиков и деревенских кулаков". Он бесповоротно переходит "в разряд господ (в крестьянском смысле этого слова)". Его склад и стремления чужды народному быту. "Он приобрел некоторые сведения, отрывочные и скудные; он вдохнул того воздуха, коим дышат образованные классы; их жизненный склад умственной и нравственный, мелькнул пред ними в живых образах несравненно более красноречивых, более властных над мыслью и духом чем всякое книжное учение. Мало того, он сам стал гражданином, хотя последним, этого мира образованности и знания, сам стал спицей – и последнею ли, - в колеснице умственного прогресса. Отныне взоры его обращены туда, по крайнему разумению его, - к верху. Оттуда свет, там же знание, там высший строй жизни". Об этом мире, конечно, он узнает понаслышке, из десятых рук, в опрощенной и опошленной передаче. Но этим миром он пленен. И дух этого мира в существе своем чужды и даже противен Церкви, а потому и подлинной сути народа. Таким образом, вопрос о сельской школе в понимании Рачинского получает острый и принципиальный характер. "Вопрос о современной русской школе", справедливо находил он, "не есть вопрос программ и более или менее практически устроенного надзора. Это вопрос роковой и грозный". Предстоит решить вопрос о самых основах и устоях духовной жизни и культуры, предстоит сделать выбор среди противоположных определений и путей. Русские верхи ушли от Церкви, и этим самым ушли от народа. Внешняя грань снята в освобождении крестьян. Как снять более глубокую и внутреннюю? Вести ли верхам за собою народ, возвращаться ли к народу? "Быть может, все то, к чему стремятся программы наших сельских школ, - и благочестие, и церковность, и самая христианская нравственность, - все это у нас уже умерло, как, по уверению многих, все это умирает в Западной Европе; все это – лишь символы и формулы отжившего строя мыслей, обреченного на гибель порядка вещей. Не обязаны – ли мы откровенно и прямо внести в сельскую школу ту новую жизнь, столь роскошно и быстро, столь победоносно, и смело развившуюся в образованных слоях нашего общества? Заменить учение о добрых нравах учением, о нравах свободных, старое благочестие, поклонение недоказанному Богу – поклонением естественному человеку, этому высшему выражению мировых сил, доступному нашему здравому смыслу? В праве ли мы скрывать ту истину, которою мы живем, от людей темных ищущих света?"… Рачинский подчеркивает, что в такой резкой постановке для большинства "этот вопрос, столь естественный и логический, звучит так странно и дико", - "при такой мысли нам становится страшно и жалко". В половинчатой нерешительности "стыдно сказать и нет, и еще стыднее, сказать да" – не от тайной ли неуверенности в новых учениях, в новой нравственности?… Из этой нерешительности пора выйти, и вернуться к вечным устоям. Конечно, для этого нужен "внутренний подвиг". "Нужно нам выйти", говорит Рачинский, "из того лабиринта противоречий, в который завела нас вся наша внутренняя история нового времени – совместное расширение нашего умственного горизонта и сужение кругозора духовного, совместное развитие у нас европейской культуры и крепостного права. Внешний узел разрублен. Пора разрешить внутренний… Достаточно оплакивали мы тот раковой разрыв, который составляет суть нашей внутренней истории нового времени и однако не мешал в великие минуты этой истории нашему полному единению. Пора нам вспомнить, что у нас под ногами есть общая почва, и твердо сознательно стать на нее. Пора сознать, что настало время взаимодействия, благотворного на обеих сторон, не того мгновенного, случайного взаимодействия и единения, которое вызывается событиями чрезвычайными, а взаимодействия постоянного, ежедневного. Почва этого взаимодействия этого единения – Церковь; орудие его – школа, и по преимуществу – школа сельская". Здесь и могут и должны встретиться духовные общества и народ в едином и совокупном творческом делании и строительстве, в созидании цельной и единой культуры, на вечных устоях, в верности преданию и истории, в полноте пережитого искуса и опыта. Для народа это будет раскрытием его исконных заветов стремлений. Для общества – возрождением и обновлением. Скромный, как будто, и ограниченный вопрос о сельской школе в сознании Рачинского вырастал до великих размеров. И в этом был он прозорлив и прав. Вопрос о сельской школе, обостренный безмерным многолюдством "народа" по сравнению с меньшинством "верхов" в последнем пределе своем был и есть вопрос категоричного духовного и культурного самоопределения. Рачинский верно и тонко ставил его: он не звал возвращаться к народу по кровным или органическим мотивам; он звал возвращаться в Церковь, чтобы там, как меньшего, но лучшего брата, встретить народ, который отсюда еще не ушел и хочет здесь возрасти и жить.
Делая скромное, повседневное, практическое школьное дело, Рачинский понимал весь его сокровенный и решительный смысл. С практической сдержанностью он остерегался торопливых обобщений, преждевременного максимализма. Он зорко глядел и четко обозначал последнюю цель, воцерковление русской души чрез воцерковление школы, - но с такой же зоркостью он его понимал, что осуществиться она может только в медленном процессе творческих рождений. Рачинский всегда подчеркивал то, что для него было самоочевидным, – что каждая школа есть живое и творческое дело, соборное сотрудничество и взаимодействие учащих и учащихся. И потому вопросы организации и программ для него получили вторичное значение. Их нельзя разрешить наперед, и даже обобщение опыта не может получить вяжущего и общезначимого характера. Жизнь школы зависит, прежде всего, и больше всего от ее личных участников, от личности ее руководителей и наставников. И в этом вся трудность школьного вопроса. В общем виде и наперед можно и достаточно определить только основные задания и приемы. Все остальное остается на волю творческого почина. И сделанный опыт получает смысл вдохновительного примера – не для повторения, но для подражания, свободного и живого. Вот почему Рачинский с таким вниманием останавливается на вопросе об учительском составе в народных школах. По его справедливому определению, "учительство в русской школе не есть ремесло, но призвание, низшая степень того призвания, которое необходимо, чтобы сделаться хорошим священником". Поэтому первым и основным учителем в сельской школе должен быть сам священник. Школа должно быть "органом Церкви". Школьное дело должно быть осуществлением учительного призвания Церкви. И этим определяется место священника в школе. Он здесь не только учитель, но, прежде всего пастырь и духовник. В его учительстве осуществляется его пастырство в отношении к юной части его паствы, - его учительство началось до школы и не прекратиться после нее, оно простирается за ее приделы, охватывает всю жизнь. И это придает ему особый смысл. В таинстве священства, напоминает Рачинский, "в числе других даров Духа Святого, сообщается и благодать наставления в вере". И этим вносится таинственное освящение в самое существо школьного дела. Священник, как учитель, имеет возможность сказать каждому из учеников то слово, в котором нуждается душа его, и та власть взять и решить, которою он облечен, придает этому слову такую силу, которой никогда не достигнуть слову светского человека". Вокруг священника должен собираться остальной учительский состав. Рачинский считал, что "школьных учителей должна плодить сама сельская школа". Не только потому, что специальные учительские школы его времени, по его оценке, были поставлены неудовлетворительно, и он опасался их не народного и кощунственного, чуждого духа. Но, прежде всего потому, что только таким путем, казалось ему, обеспечивается живой и жизненный характер школьного дела. "Приобретение практических навыков преподавания, истинного понимания обязанностей учителя относительно учеников", говорит Рачинский, "совершается гораздо успешнее в живой действительной школе, где ученики являются целью, а не средством, чем в экспериментальных школах при учительских семинариях, где ученики более или менее отводятся на степень учебных пособий для преподавания педагогики и дидактики. Лучшая школа для начинающего учителя – не упражнение в давании образцовых уроков, но в поручении ему, под руководством опытного наставника, последовательного, сообразно с его силами дела, сопряженного с ответственностью, сперва легкого потом постепенно осложняющегося". При такой постановке учительской подготовки школа естественно превращается в живой организм. Он как бы вырастает из жизни. И это связано с ее назначением быть "органом Церкви, в самом широком смысле этого слова", т.е. прежде всего органов той малой, приходской Церкви, духовному возрастанию которой она призвана служить. В школе должна отражаться эта Церковь, и потому никогда школа не должна быть приходскою, ибо "за приходом после деревни остается значение единственного действительного, живого союза в нашем сельском быту, и притом союза духовного. Церковность школы в понимании Рачинского совсем не означает клерикального и тем более "ведомственного" характера. Церковною может быть любая школа. Эта характеристика ее внутреннего строя, - церковна школа, если она "школа благочестия и добрых нравов". "Поручена" она должна быть священнику. Но вместе с тем она должна быть делом всех церковных элементов сельского населения, духовных и светских, без различия состояний и сословий". И живою школа становится только тогда, когда вокруг нее создается атмосфера, в коей возможно насаждение и благочестия, и добрых нравов, и жизни христианской". Рачинский был далек от оптимизма в расценке этой действительной сельской "атмосферы", в счете и разборе наличных сил школьного строительства и дела. И к сельскому обществу, и к сельскому духовенству он относился довольно сурово и строго. Духовенству он вменял в вину чистое равнодушие к школьному пасторству, хотя и находил для этого объяснение и извинение в неладице существующих условий. но из этого он делал вывод только о необходимости всеобщего творческого напряжение и подъема, и обращал возбудительный призыв и к наличному пасторству, и к будущем, и ко всему обществу. "В делах свойства духовного", говорит Рачинский, "в делах неизмеримой важности и длительности безграничной, каково дело народного образования, нужно иметь в виду не только то, что есть, но и то, что может и должно быть. Для всякого творческого акта нужна воля, нужна вера, хотя в зерно горушечно – в данном случае вера в несокрушимость Церкви, как вечного союза и мирян и духовенства, как живого тела с Главою Небесным, твердая воля осуществить этот союз во всех отправлениях жизни духовной. Явления, так называемой материализации, в сфере вещественной призрачные, совершаются ежедневно в духовной жизни… Далеки мы, по многообразным немощам и мирян и духовенства, от идеала школы истинно церковной. Глядя на дело со стороны, легко в нем отчаяться. Но стоит только смиренно и искренно приложить руки к этому делу, чтобы никогда более их не отнимать, - так отраден, так многозначителен каждый малейший шаг на этом пути"…
Сельская школа должна быть школою благочестия. И этим определяется в ней сосредоточенное место Закона Божия. Это не только один из предметов преподавания, хотя бы и главный, именно живое сосредоточие школы. О преподавании Закона Божия Рачинский говорит немного, перелагая центр тяжести на пастырское творчество и самодеятельность приходского законоучителя. Но со всею силою он подчеркивает, что классное обучение должно оживляться практическим участием школьников без совершении богослужения в качестве чтецов и певцов. С этим связывается и введение в основной круг преподавания церковно-славянского языка и церковного пения. "Религиозный, церковный характер, налагаемый на нашу школу силою вещей", говорит Рачинский, "обуславливает ее резкую особенность – учебную программу, отличающуюся от учебных программ всех школ иноземных". Усиленное преподавание церковно-славянского языка имеет не только прикладное значение. Рачинский подчеркивает его исключительный воспитательный смысл. "Обязательное изучение языка мертвого, обособленного от отечественного целым рядом синтаксических и грамматических форм, а между тем столь к нему близкого, что изучение его доступно на первых ступенях грамотности, - это такой педагогический клад, которым не обладает ни одно сельская школа в мире. Это изучение, составляя само по себе превосходную умственную гимнастику, придает жизнь и смысл изучению русского языка, придает незыблемую прочность приобретенной в школе грамотности". Но церковно-славянский язык открывает доступ к несравненным и незаменимым сокровищам высшего духовного творчества и вдохновения, - к Священному Писанию, к богослужебным книгам. На самих уроках славянского языка дети вводятся в область высших откровений истины, красоты и правды. Самое обучение грамоте получает новый и живой смысл, если начинать со славянской грамоты, "со звукового разбора и писания самых кратких, самых употребительных молитв". "Ребенок, приобретающий за несколько дней способность писать" Господи помилуй и Боже милостив, буди мне грешному, заинтересовывается делом несравненно живее, чем, если вы заставите его писать: оса, усы, мама, каша…" Обучение славянскому языку начинается с употребительных молитв и должно быть доведено "до полного понимания языка церковно-славянского Нового Завета". Для этого Рачинский рекомендует "неоднократное, внимательное чтение в классе всех четырех Евангелий, сперва с помощью русского перевода, а потом по одному церковно-славянскому тексту, с терпеливыми остановками на каждом обороте, который может подать повод к недоразумению"… Так уроки славянского превращаются в повторительные и дополнительные уроки Закона Божия. Наряду с чтением Евангелия необходимо чтение Псалтири, что давно осознано в непосредственной практике сельского обучения. "Псалтирь – единственная священная книга, проникшая в народ, любимая и читаемая им, и того, что в ней непосредственно понятно, уже достаточно, чтобы потрясать сердца, чтобы дать выражение всем скорбям, всем упованиям верующей души… Школа обязана укрепить наш народ в обладании этим сокровищем назидания и поэзии, раскрыть несколько это возможно, перед своими учениками его высокий дух, вечный смысл". Псалтирь и Часослов должны быть в ежедневной школьном употреблении. С большою точностью и чуткостью разъясняет Рачинский глубокий воспитательный смысл "постоянного чтения и перечитывания этих книг". "Псалтирь", говорит он, - высочайший памятник лирической поэзии всех веков и народов. Содержание его – цельное и вечное. Это постоянное созерцание величия и милосердия Божия, сердечный порыв к высоте и чистоте нравственной, глубокое сокрушение о несовершенствах человеческой воли, непоколебимая вера в возможность победы над злом при помощи Божьей. Все эти темы постоянно в оборотах речи неисчерпаемой красоты, силы и нежности". Часослов состоит из тех же Псалмов и молитв, Псалтирью вдохновленных". Эта неповторимая сила Псалтири засвидетельствована всею историей Церкви. "Самая пророческая из пророческих книг, она стала азбукой христианства, и положила на христианском сознании и чувстве неизгладимую и властную печать. И в то же время она остается венцом молитвенного песнопения, недосягаемым образцом, неиссякаемым источником, питающим поэтическое творчество двух тысячелетий", - "величайшее чудо во всей истории всемирных литератур". И чуткий духовный взор народа давно разглядел это сокровище и это чудо, полюбил его и сроднился с ним. "Случалось ли вам", спрашивает Рачинский, "при вынужденной ночевке в крестьянской избе, осмотрев от скуки всю скудную ее обстановку, раскрыть ту единственную книгу, в почерневшем от времени переплете, которая лежит под полкою с образами? В огромном большинстве случаев, эта книга – Псалтирь. Запятнанные ее страницы, обтерты ее углы. Но не одна грязь мозолистых рук оставила эти пятна. Тут есть капли воска, капли слез медленно падающих на эти страницы во время долгих ночных чтений по дорогим покойникам. Не рассеянною небрежностью истрепаны эти углы, но благоговейным переворачиванием этих страниц, быть может, многими поколениями. И при всяком чтении, для чтеца, по мере его умственного и нравственного роста, ярким пламенем вспыхивал внутренний смысл того или другого речения, до сих пор для него непонятного и с каждым чтением дороже становилась ему старая книга, лежащая под образами"… Псалтирь раскрывает пред ребенком небесную высоту, окрыляет, освежает и освещает его душу. И вместе с тем открывает для него доступ и возможность "постоянно участвовать в совершении величайшего из художественных действий, завещанных нам творчеством веков – в исполнении наших церковных служб". И это новая великая не только художественная, но и нравственная школа. "Учение в школе еще не началось", записывает Рачинский в один субботний вечер. "Завтра соберутся ученики, чтобы петь обедню. Но ученица из самой дальней деревни нашего прихода (18 верст) уже тут. Она поет на правом клиросе: это радость и гордость ее жизни. Из темной глубины притвора, из - за густого напева мужчин, она вознесена на высоту того таинственного алтаря, в который он не может вступить. О ней молятся в сугубой ектении. Те святые и страшные слова, от которых содрогаются сердца и гнутся колени – она оглашает ими Церковь, и мало помалу, в строгом строе созвучий, в благоговейном внимании, напрягающем весь хор, перед нею раскрывается глубокий смысл этих слов, неизъяснимая никакими школьными толкованиями". С исключительным проникновением Рачинский описывает совершение великопостного Великого Повечерия (Мефимонов) в его школе, и подчеркивает все оттенки этой неподражаемой священной службы с ее, действительным, неописуемым драгоценным перлом, Каноном преп. Андрея. В великой простоте здесь разверзаются неоглядные глубины, и над ними недоступные высоты. Пение и чтение за этой службой, конечно, есть несравненный урок не только благочестия, но и духовной тонкости и культуры. Конечно, сельская школа за краткий срок рядового обучения не может до конца раскрыть все глубины богослужебного богатства. Нельзя поспеть научить действительно хорошему церковному чтению, чтению с разумением. Но можно заложить для этого твердые и незыблемые основы. И в этом залог "элементарной, но прочной грамотности". Рачинский верно отмечал, что только церковно-славянский язык дает в условиях сельского быта живую возможность плодотворного и "постоянного упражнения в грамотности". Ибо он открывает доступ к нужным, доступным и безусловно полезным книгам. "Неисчерпаемая богатство нашего богослужебного круга, - этого сокровища поэзии, нравственного и догматического поучения, наряду со священным Писанием и житиями святых, дают постоянную пищу уму, воображению, нравственной жажде нашего грамотного крестьянина, поддерживают в нем способность к тому серьезному чтению, которое одно полезно и желательно". «Кто овладел хотя бы только службами Страстной Седмицы, тот овладел целым миром высокой поэзии и глубокого богословского мышления»… «Тот, кто это понял, кто это почувствовал, кто своим чутьем довел до сознания безграмотных слушателей хотя бы десятую долю этого вечного содержания, - можно ли отказать ему в умственном, в художественном развитии?» - спрашивает Рачинский. "Можно ли сомневаться в том, что ему будет доступно по содержанию и по форме все, что представляет прочного и истинно ценного наша светская литература?" И то же нужно сказать о церковном пении древнего стиля. "Тому, кто окунулся в этот мир строгого величия, глубокого озарения всех движений человеческого духа, тому доступны все выси музыкального искусства, тому понятны и Бах и Палестрини, и самые светлые вдохновения Моцарта, и самые мистические дерзновения Бетховена и Глинки"… Не часто это осуществляется, но всегда возможно, для каждого в меру врожденной восприимчивости и одаренности. – Так школа славянского чтения и церковного пения становится школою умственного, и нравственного, и этического воспитания, школою духовной культуры. В такой школе ребенок раскрывается в действительности человека, по образу и подобию Божию.
Образовательный объем начальной сельской школы при четырехлетнем ее курсе Рачинский определял довольно скупо. Он ограничивал его русской грамотой и арифметикой целых чисел. Он не допускал возможности прочного усвоения слишком большого запаса сведений и потому переносил центр тяжести на образование и приобретение практических навыков и умений. На такие навыки, а не на сообщение некой "энциклопедии реальных знаний" должно, по его мысли быть направлено внимание преподавателя. На уроках русского языка за четыре зимы можно или следует научить и приучить школьников: 1) говорить без ошибочных местных оборотов и речений;2) читать с полным пониманием доступную по содержанию прозу и стихотворения "Пушкинского периода" и 3) писать без ошибок против грамоты и правописания обиходные письма и бумаги, нужные в крестьянском быту. В сущности, этот объем не так уж мал. Рачинский дает примерный перечень произведения для чтения. К творениям Пушкина и Гоголя он присоединяет из русских Семейную Хронику, Князя серебряного, исторические романы Лажечникова, Загоскина, условно, рассказы Печерского; из всемирной литературы Гомра, исторические драмы Шекспира, Потерянный Рай. Весь Гоголевский период он исключает и исключает по дельным основаниям. Во-первых, из-за слишком сложного стилистического строя, "затрудняющего быстрое понимание и плавное чтение". И, главным образом, во-вторых, потому, что "в массы проникают только произведения вечные", и весь "Гоголевский период русской литературы остается и навсегда останется недоступным русскому народу". Ибо, "он не более, как яркое отражение переходного состояния русского, от части европейского общества, отражение таких внутренних процессов его сознания, которое не имеет ни общественного, ни всенародного значения". Он, думалось Рачинскому, вообще скоро устареет и "переживет нас только Война и Мир". Толстой, находил он "еще должен написать книгу, которая проникнет в самую глубь народа и останется, и эту книгу он напишет". Вводить сельских ребят в чужой и чуждый мир, Рачинский считал ненужным и даже опасным. Но здравое чутье детей само производит выбор, и что же делать "если им легче проникнуть с Гомером на греческий Олимп, чем с Гоголем в быт петербургских чиновников"… С особенной силой Рачинский выдвигает Пушкина, начиная со сказок до прозы и Годунова. "Его творчество, что – всемогущий талисман, сразу раздвигающий вокруг каждого грамотного тесные пределы времени и пространства, в котором до тех пор вращалась его мысль"… - Преподавание арифметики Рачинский ограничивает областью целых чисел, при чем считает ненужным постепенность перехода от первого десятка к сотням и т.д. Он обращает внимание на то, что у сельских детей, при "необыкновенной восприимчивости количественного созерцания", уже имеется на лицо, хотя и в представлении только, "бесконечная перспектива чисел, группирующихся по системе, известной им по копейкам, гривенникам и рублям". При обучении счислению нужно ставить конкретную и практическую задачу – развить быстрый и верный умственный счет. Дальнейшее расширение программы Рачинский считает целесообразным только при увеличении учащего персонала, полагая, что, в противном случае, вместо действительных получаются мнимые знания. Но дальше арифметики дробных чисел и элементарной физики он вообще не идет. Преподавание отечественной истории представляется ему чрезвычайно трудным. Живое изучение природы в зимнее время не возможно. Зато возможно и нужно развивать технические сведения и навыки, заводить специальные ремесленные и земледельческие школы. Но сквозь эти рассуждения Рачинского просвечивает еще одна общая и определяющая мысль: сельская школа есть школа окончательная. И она готовит и должна готовить в жизни в сельском быту. Здесь Рачинский встречается с трудным вопросом, как быть в тех случаях, когда открывается для отдельных школьников материальные и духовные возможности продолжать образование. "Средне-образовательные заведения" его смущают, как "рассадники не просвещения, но чиновничества"… Окончательный, бесповоротный разрыв с крестьянской средою, неизбежный при таком шаге, редко вознаграждается приобретением научного образования", в особенности, если образование прерывается до окончания полного гимназического курса. Рачинский ищет "иных путей, чем помещение в наши теплицы для выгонки чиновников". Но интересны здесь не его практические предположения, а необходимость самого вопроса при церковно-народной постановке сельской школы. Вся русская школа выше элементарной ступени имеет другой стиль, насыщена другим духом, а не народным и не церковным. Здесь снова сказывается резкий разрыв и раскол общества и народа, верхов и массы. При нем всякое дальнейшее образовательное восхождение означает отрыв от быта, от среды, от семьи, переход в мир "господ". Единственный путь, до известной степени предохраняющий от разрыва, открывается через духовную школу. Но и здесь Рачинский не без оснований колеблется, при сложившемся в прошлом типе духовных школ. Он не ставит вопроса в общей и четкой форме, но вопрос подготовляется всем ходом его размышлений. Сельская школа, как единственная школа для сельских детей, должна быть сразу и окончательной и подготовительной, и потому должна быть низшей ступенью в восходящей системе школ, но при том системе единого типа и духа. Продвижение по этим ступеням, конечно, зависит от личной одаренности и от внешних условий. Но возможность такого продвижения должна быть открыта. Иначе сказать ставится на очередь осуществление школ высших ступеней церковного духа, под сенью Церкви, подобно начальным школам, раскрывающим сокровищницу Церкви и живущим, как Ее органы. Рачинский не говорил, но вряд ли не думал об этом. Но это равнозначно коренному переустройству всего школьного дела. В его время это было несвоевременно и невозможно.
В педагогических размышлениях Рачинского многое устарело. Разлагающие процессы, которых он так боялся, изменили всю народную среду, ниспровергли ту бытовую цельность и твердость, ту легкость народного духа, из - которых в своих думах он исходил. После смуты сельская среда стала совсем иной. И вместе с тем основной замысел Рачинского остается в полной силе. Быть может именно теперь и только теперь он становится до конца общепонятным. При восстановлении и возрождении России школа должна быть внутренне единой и цельной, изнутри определяется единой идеей и более, чем идеей. Если во времена Рачинского было справедливо сказать, что "только в качестве органа Церкви" школа в силах справиться с "нравственной сутью русского человека", уже заложенный в русском ребенке, со всею сложностью могучих, но и опасных задатков, прирожденных русской душе, - то в сколько раз справедливее это теперь, когда до дна взбудоражена, и потрясена, и отправлена эта душа, и прошла чрез омуты зла и бесстыдства. Вправить духовный вывих можно только в напряженном творчестве всецерковном. Только внутри Церкви, в Ее недрах можно уврачевать взвихренную душу. И более того, в действительности уже неотразимо зарождается церковная школа, в случайных и в переливчатых формах. Ибо Церковь не прекращает, но усиливает свой учительный подвиг. И учительство Церкви силою вещей выходит за пределы нравственного душепопечения, ибо верующее самоопределение стало теперь невозможно без твердого и четкого решения мировоззрительных вопросов. В это учительство неизбежно вовлекается весь состав церковный, и пастыри, и миряне. Не время определять, как далеко отходит теперь этот процесс. Нет возможности это учесть. И не следует увлекаться оптимистическими надеждами. Несомненно одно, этот процесс начинается или начнется, ибо не может не начаться, - конечно, не сразу и не везде. Это учительство имеет молекулярный характер, вспыхивает по местам, - и в том его сила, и залог силы. Церковные школы возникнет и при лучших условиях вряд ли сверху, по заранее обдуманному и единообразному плану. Она будет проявлением творческой самодеятельности небольших, но сплоченных, уплотненных ячеек или групп, - может быть, приходов, может быть, братств, может быть, нового неведомого еще типа организаций. Это будет строительство снизу, и только в нем опора возможному строительству сверху. Может случиться и так, что снова повторится расхождение школы казенной и школы церковно-народной по духу и по цели: два порыва, несмыкающиеся и не встречающиеся, но даже противоборствующие. Тем более этого можно опасаться потому, что останется надолго и одним насилием до конца не может быть устранено наследие советского школьного строя, сделанного теперь дренажем безбожной и безверной пропаганды. Во всяком случае, церковная школа никогда не может быть школою государственной. Но государство, как таковое, может и будет строить ее, как не государство строить и всю духовную культуру, которая только строится в государстве живыми и свободными силами народного гения духа. Школа церковная и в прошлом, поскольку она существовала, государственной не была. Рано загадывать далеко вперед. Но одно наперед должно сделать ясным. Церковно-школьное строительство не может и не должно ограничиваться начальной ступенью. Оно должно раскрыться в целостную и законченную систему непрерывно восходящих ступеней. Этим выдвигается целый ряд совершенно новых творческих заданий. Главная трудность не в создании начальной школы церковного типа, для которой есть примеры и опыты в прошлом. гораздо сложнее и загадочнее высшая ступень. Для нее прообразов искать придется в слишком далеком и отчужденном прошлом, может быть, в огласительных школах седой христианской древности, разраставшиеся временами и по местам в подлинные школы мудрости и любомудрия. Во всяком случае, не школы ближайшего и родного прошлого подадут здесь пример. И прежде всего потому, что они были существенно внецерковные, они не были "органом Церкви". Закон Божий был в них рядовым предметом преподавания, часто даже побочным, слишком рыхлою и формально-внешнею связью соединялся с остальным кругом предметов, тонул среди них, - так что выключение его из программы ничем не сказалось бы, на чем не отразилось бы. И более того, слишком часто он бывал как бы лишним в школьной системе, и часто чувствовалось мучительное противоречие между Законом Божиим и той идеей, которая скрыто или явно, по самому заданию осуществлялась в преподавании общем. Идеал Гомера и греческих трагиков, идеал римских поэтов и историков слишком далеко уходил от церковного идеала. Такая школа не была и не могла быть "преддверием Церкви". Немногим лучше обстояло и в школах духовных, многострадальных в своей истории. Не найдется пригодного образца и в конфессиональной школе Запада. Ибо церковная школа не есть школа конфессиональная. Церковь не исповедание, но неизмеримо больше. Как сделать "Закон Божий" и христианские вероучения живым сосредоточием школьной жизни и школьного творчества – это не вопрос программ или организации. В некоторой мере опыт Рачинского дает указания в этом вопросе. Начинаться снизу церковно-школьная сеть должна с некоего подобия его сельской школы. Но раскрытие богослужебного и исторического богатства Церкви должно быть более полным и глубоким. В нем могут найти для себя основание и опору многие школьные дисциплины, исторические, прежде всего. Гораздо шире должна быть раскрыта в школьном творчестве картина Церкви в ее исторических судьбах. Гораздо глубже должна быть исчерпана библейская сокровищница. И в этом определиться и закалиться пробуждающееся мировоззрение, так начнет расти в школьнике христианин, живой, хотя и юный член Церкви, участвующий и опознающий себя таковым и утверждающий это в своей воле. Это главная задача, - создание и укрепление церковного стиля и характера в школьнике. Вопрос программ и слияние их в живое и единое целое при всей своей сложности и трудности, остается все же на втором месте. Конечно, церковно-школьное строительство возможно только в живой связи общего строительства церковной культуры. Путь к воцерковлению – христианская школа – только в порядке воцерковления, в воцерковленной уже жизни возможна. Это – мнимый круг. Это значит только то, что церковную школу может создать только Церковь. И нужно прибавить, понятие воспитания в существе своем шире его обиходного значения. Воспитание не есть только воздействие старших на младших. Воспитанием является всякое заражающее взаимодействие лиц или слов, влияющих односторонне или обоюдно друг на друга. В этом смысле вся культурная жизнь есть некое соборное воспитание И в нем воспитание младших есть только живой элемент. Напряженность культурной жизни, творческой и собирающей, есть непременное условие жизненности школы. Еще резче это сказывается в деле школы церковной, церковной на деле, а не по имени. Путь к религиозному воспитанию русского народа, русская церковная школа осуществится только на святой Руси, пусть в пределах единственного прихода. Сеемое немощной человеческой рукою выращивает Всемогущий Бог.
Георгий В. Флоровский.
Медон под Парижем
декабрь 1927 год.
печатается по книге: "Вопросы религиозного воспитания и образования" Выпуск II. Париж 1928. Издание Религиозно-Педагогического кабинета при Православном Богословском институте
|